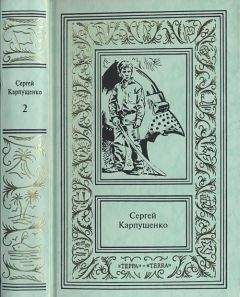Борис Орлов - Судьба — солдатская
Они долго молчали. Стародубов то и дело встречался с испытующим, настороженным взглядом Похлебкина. Вспомнилось: когда приехал в штаб батальона, разговорился с дежурившим там младшим лейтенантом. Из того, как он мнется, рассказывая, Стародубов понял, что Похлебкин крепко держит подчиненных в руках и сор из избы, как говорится, выносить не дает. На то, что идет война, это было ясно из слов младшего лейтенанта, здесь смотрят еще так себе, будто идет игра — вот разве только пойманные немцы…
Похлебкин выжидал — пусть заговорит Стародубов, выскажется.
Он понимал: приказ давал Стародубову права чуть ли не комиссара, да и звание он имел высокое, и поэтому с его мнением, как ни крути, придется, пока его, Стародубова, не отзовут в штаб полка, считаться; получается, на батальон теперь их, командиров, стало, по существу, двое, и все надо делать так, чтобы это было правильным с точки зрения обоих.
Молчание нарушил Похлебкин. Он тепло спросил:
— Как добрались? Вы как будто в отпуске были?
Стародубов сокрушенно махнул рукой:
— После как-нибудь. До этого ли?
— О чем вы? — насторожился Похлебкин. — Вам надо вид принять, почиститься. Будто в окопах были.
— Что вид! — бросил Стародубов. — Мой вид! Вот у батальона вид не совсем гожий.
— Считай как хочешь, — вдруг перешел на «ты» Похлебкин. — Прислали помогать — помогай, а критиковать легче легкого. Много в батальоне есть гожего и много негожего… Давай делать, чтобы все было гоже.
Стародубов поднялся. Прошелся по комнате. Остановился у окна. Похлебкин сидел как вкопанный. Глаза его сделались непроницаемыми — так сузились, что их прикрыли ресницы.
Дежурный по роте, распахнув дверь, доложил, что личный состав построен.
Похлебкин махнул на него рукой, и дверь закрылась.
Молчание нарушил Стародубов:
— Зачем это построили их?
Похлебкин в двух словах рассказал о Чеботареве, его проступке и заявил, что намерен посадить его на гауптвахту.
Стародубов хмурился.
— Кузьма Данилович, — заговорил он, улыбнувшись одними глазами, и отвернулся к окну, — пойми меня правильно. Я считаю, пора на дисциплинарный устав смотреть глазами человека, сознающего, что идет война, и поэтому применять его букву особенно продуманно… — Он помолчал. Спросил не оборачиваясь: — Неужели этот Чеботарев такой уж нерадивый? Ну ладно, допускаю, провинился он… Ну испытай его на чем-нибудь, проверь. Вот, кстати, вы, кажется, о семьях своих командиров еще не позаботились. Вот и пошлите его в Псков, чтобы вывез их. Я, между прочим, на полуторке сюда приехал. Ее и возьмите.
Они надолго замолчали. Стародубов подумал, что здесь, в батальоне, в сущности, живут еще мирными представлениями. А так ли надо?.. Ему вспомнилось, как, находясь в отпуске в Алупке, узнал он о начале войны.
И Стародубов, и жена его любили встречать рассвет над морем. В эти ранние часы небо обычно безоблачно, а по воде ходит отлогая, замирающая зыбь. Вокруг царит безмолвие, и только где-то внизу, под скалистым обрывом, набегая на каменистый берег, шуршит волна галькой, силясь рассказать о чем-то своем, непостижимом и далеком. Лучи солнца вырываются из-за овального, смыкающегося с небом горизонта как-то вдруг и, очертив его мягкую, не видимую отсюда зыбь легкой позолотой, светятся, искрятся.
Так было и в день начала войны.
Рано, когда небо на востоке чуть-чуть начало бледнеть, пошли они к морю. Минуя дорожки, сбегали по каменистой, крутой тропке, протоптанной любителями прямых спусков и подъемов. Жена смеялась и все приговаривала: «Каблук отвалится — чинить будешь». А он, крепко держа ее за руку, в ответ только улыбался и все думал: «Как мы еще молоды!.. Что лучше: эти первые минуты восхода или наша любовь?» И отвечал, радостный: «Наша любовь». Почти у самого моря, на дорожке, которую пересекали, встретили плачущую молодую женщину. Она торопливо шла, держа в руке носовой платок, и плакала, не утирая слез. Стародубов огляделся и спросил участливо: «Кто вас обидел?» Та подняла на него большие светлые глаза и прошептала, глотая слезы: «Да война ведь, война!.. Севастополь бомбят немцы. Семья у меня там…» Стародубов разжал ладонь — рука жены, как плеть, упала и повисла…
Вспомнились Стародубову и Симферополь с вокзалом, набитым военными, комендатура… Все военнослужащие в голос просили: «Билеты! Билеты дайте — нас же в частях ждут! Хоть стоя, хоть на багажных полках…» Комендант разводил руками и говорил утешительные слова: «Как-нибудь устроим… только военнослужащих. Жены, семьи — во вторую очередь». До Пскова Стародубов ехал целую неделю. Всю дорогу не мог забыть, как уговаривал плачущую жену в Симферополе: «Ничего, добирайся к матери. Не могу я задерживаться здесь — война…» Что с ней стало?.. Ехал через Минск. В Белоруссии дважды попадал под бомбежку. На какой-то станции горел отведенный в тупик состав, рвались вагоны со снарядами… Где-то видел вместо вокзала груду камней и щебня… Поезд везде стоял часами, а на больших станциях — до суток: пропускали на запад воинские эшелоны…
Молчание нарушил Похлебкин.
— Николай Александрович, давайте так, рука в руку… — снова перейдя на «вы», тихо проговорил он. — С Чеботаревым этим я, возможно, не продумал… Но, скажу прямо в лицо, работать будем на уступках, иначе не сработаемся.
— Не на уступках, а на разумном согласии, на принципиальном решении вопросов, — поправил его Стародубов.
— Можно и так назвать это. Как хотите, — промолвил комбат, — но все-таки учитывайте: командиром батальона являюсь пока я, и отвечать за него мне, а не вам… А Чеботарев… давайте пошлем его в Псков. Солдат он добросовестный, да и война… можно простить. — И вдруг вскипел: — Но вы знаете… мне боец Сутин доложил, что Чеботарев, когда я лишил его увольнения, назвал меня даже солдафоном!.. Извините, но это… это…
— А если это критика снизу? — простодушно проговорил Стародубов. — Ты так не подумал? Бойцы, они тоже часто видят не меньше нашего… а порой и больше, только высказать им это часто бывает некому — мы не слушаем, а кому еще говорить? — И, сделав паузу, добавил: — Мы должны быть умнее. Нам из всего надо извлекать для себя уроки.
2Из роты Чеботарев заехал в штаб батальона, взял там командировочное предписание, и шофер, выпросив на кухне хлеба и отварного мяса, погнал машину к Пскову.
То, что происходило на шоссе, ближе к городу, поразило Чеботарева. На восток шли и шли беженцы, ехали обозы. Шофер часто останавливался. Когда полуторка уперлась в образовавшуюся впереди пробку, сказал:
— Надо было часа на три раньше выезжать. Тогда бы проехали легко, а сейчас поднялись, кому приспичило, и прут кто куда… Теперь до позднего вечера такая толкотня будет на шоссе, — и выругался. — Плохи, брат, видать, дела на фронте… Что ни день, города сдаем, направления новые появляются. И когда его, окаянного, остановим?!
— Остановим, — тихо проговорил Чеботарев. — Вот подтянут резервы, армию до конца отмобилизуют… и жиманем. Так жиманем, что от фашистов перья полетят.
— А тебе известно, что немец за Минском уже? — Шофер посмотрел на него. — К Москве норовит прорваться… — И после того как свернул из махорки цигарку и закурил, продолжил: — Война только началась, а он вон уж куда хлестанул! А если по газетам нашим, так можно подумать: не сегодня-завтра опрокинем…
— Так в газетах же и об этом пишут. От народа… и захочешь, так не скрыть, — возразил Чеботарев.
— Не скрыть, — ворчливо произнес шофер. — Вон как Перемышль отбили, то и написали, а когда сдали снова — молчок…
— Сгущаешь ты, — буркнул Петр.
Шофер замолчал.
Чеботарев поглядел на проходившую мимо девушку с узлом, подумал: «Может, и Морозовы уехали?»
С трудом разобрались, из-за чего образовался затор. Оказалось, у грузовой машины, кузов которой был набит, видно, детдомовскими пяти — семилетними детьми, кончился бензин или испортился мотор. За машиной двигался обоз с ранеными — перебазировался госпиталь. Ездовые ругали шофера. Шофер растерянно посматривал на них и чесал затылок. Пешеходы молчаливо обходили машину.
Мимо Чеботарева шли и шли люди…
Машину, ссадив с нее детей, таких же молчаливых и усталых, как пешеходы, своротили на обочину солдаты из обоза. Две женщины, наверно воспитательницы, подталкивали ребятишек к полянке за кюветом. Хлопотали возле них, как куры-наседки…
В образовавшийся проем хлынул обоз. На каждой подводе сидело, а где и лежало по два-три раненых красноармейца. Некоторые бредили, пытались сорвать окровавленные бинты. В предпоследней бричке лежали двое вытянувшись. «Покойники», — с ужасом подумал Петр.
— По проселкам надо добираться! — неожиданно сказал шофер и, круто разворачивая полуторку, стал съезжать с шоссе к идущей в сосняке полевой дороге, по которой, очевидно, и ездили-то от случая к случаю, да и то местные жители. — Попали… Содом.